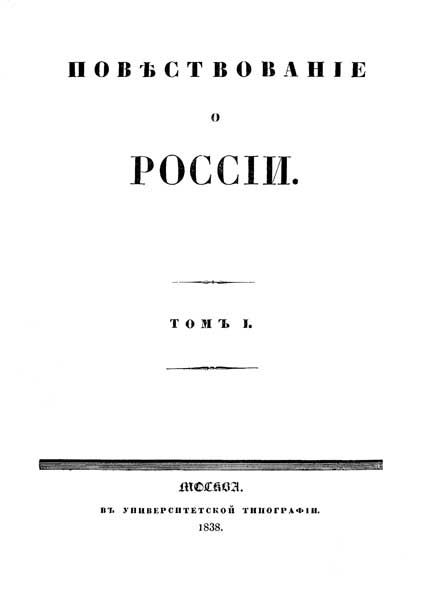
Имя Николая Сергеевича Арцыбышева (1773—1841) ни о чем не говорит не только широкому читателю, но и большинству историков-профессионалов. В лучшем случае они припомнят самые общие сведения, сводящиеся к краткой энциклопедической справке: мол, Н. С. Арцыбашев жил в начале XIX в., был представителем «скептической школы» и автором не получившего признания «Повествования о России». Самые дотошные припомнят, что он выступил строгим критиком знаменитой «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (1766—1826), и именно поэтому поэт Е. А. Боратынский, описывая приятелю свое случайное знакомство с ним, назвал его «страшным Арцыбашевым». Так Боратынский передал тогдашнее общественное мнение об этом не вписывающемся в обычные рамки человеке: в его оценке отразилось двойственное чувство — с одной стороны, уважение к его огромным познаниям в области русской истории, с другой стороны, неприятие и боязнь этих познаний, которые разрушали привычное представление о Н. М. Карамзине как непререкаемом авторитете.
Между тем, стандартнные энциклопедические данные содержат по крайней мере две ошибки. Во-первых, сам Николай Сергеевич свою фамилию писал всегда только как «Арцыбышев»[1]. Во-вторых, отнесение его к «скептической школе» есть чистое недоразумение, основанное на чисто внешней аналогии: коль скоро он скептично относился к Карамзину и сотрудничал с М. Т. Каченовским, издателем «Вестника Европы», которого принято считать главой «скептической школы», то и сам Арцыбышев — «скептик».
А мнимая принадлежность к «скептической школе» становилась в глазах потомков неким клеймом. Принято считать, что «скептики», не добившись реальных научных результатов, отличались поверхностным гиперкритицизмом по отношению к источникам: мол, отрицая, они ничего не создали взамен. Между тем, подход Арцыбышева был противоположным. Он доверял источникам и в своем «Повествовании о России» поставил своей задачей как можно точнее следовать им. По его словам, «трудившись над ним с 1802 года, я сличал — слово в слово, а иногда буква в букву — все летописи, какие мог иметь, соединял их, дополняя одну другою; и таким образом составлял изложение». Жесткие требования он предъявлял в первую очередь не к источникам, а к работающим с ними историкам: «не надо фантазировать!» — такова суть его претензий к Карамзину.
Подробнее о его споре со знаменитым «историографом» будет сказано ниже, а пока отмечу, что наиболее тесное сотрудничество в конце жизни установилось у Арцыбышева с М. П. Погодиным (1800—1875), яростным оппонентом «скептиков», трудами которого и было осуществлено издание (частью — посмертное) «Повествования о России».
И последнее предварительное замечание. Н. Я. Эйдельман, популярный в 80-х гг. XX в. историк и публицист, написал среди прочего книгу о Карамзине, назвав ее — «Последний летописец». Сей плодовитый и красноречивый автор заблуждался: последним летописцем, т. е. историком, построившим свое описание истории по летописному принципу, был вовсе не Карамзин, а Арцыбышев.
Так кто же он — Николай Сергеевич Арцыбышев, оставшийся загадкой как для его современников, так и для потомков? Неудачник, оставивший после себя огромный бесталанный труд, так никем и не востребованный?
Нет! Это был талантливый поэт, мудрый философ, глубокий историк, во многом опередивший свое время. Хотелось бы верить, что его время наступило сейчас — в начале XXI века…
*
Николай Сергеевич Арцыбышев родился 1 (12) декабря 1773 г. в сельце Мамино Цивильского уезда Казанской губернии (ныне — Чувашия). Раннее детство Арцыбышев провел в этом родовом поместье, расположенном в семи верстах от уездного города Цивильска.
В 1781 г. умер его отец, а еще через пять лет — и мать. С девяти лет Николай жил в частных пансионах — сначала в Казани, а затем в Петербурге. Пансионы, в которых он пребывал, были по тем временам хорошими: там неплохо преподавались математика, география, всемирная и натуральная истории, закон Божий, французский, немецкий и русский языки, рисование, музыка, хореография и др. Основное внимание в пансионе уделялось точным наукам. Именно тогда сформировались его творческие интересы, однако, записанный в 13 лет капралом в гвардейский Семеновский полк, он должен был уже в 1788 г. поступить на военную службу, сначала совмещая ее с учебой в пансионе.
Проведя в полку около десяти лет и, очевидно, поняв, что военная служба — не для него, Арцыбышев добился перевода из гвардии в казанский гарнизон, чтобы там, получив чин капитана, выйти в отставку. Сразу это ему не удалось, но все же, пройдя через ряд драматических для него катаклизмов (позорное исключение из полка, прощение и высочайший поцелуй от Павла I — 29 января 1801 г., т. е. менее, чем за 2 месяца до цареубийства!), Арцыбышев все же добился своего, и с 28 ноября 1801 г. начал жить в Казани в качестве гражданского лица. Вскоре он уехал в свое поместье, где и жил до конца своих дней, временами (обычно зимой) наезжая в Казань и изредка посещая столицы.
Не получивший академического образования, но обладавший незаурядными лингвистическими способностями[2] и превосходной памятью[3], Арцыбышев еще в Петербурге много читал на разных языках, писал стихи, которые большей частью либо не сохранились, либо не известны (поскольку публиковались анонимно). Именно тогда у него зародился интерес к истории, и первые его исторические опыты (повесть «Рогнеда, или Разорение Полоцка», 1804) отражали переходную стадию его творческого развития — между начальным литературным и последующим научным периодами его деятельности. Затем появились сначала исследования, типичные и для современного научного творчества: анализ нескольких сюжетов древнейшей истории России и попытка осмысления фактов, содержащихся в источниках («Сведения древних о краях нынешней России», 1808; «О первобытной России и ее жителях», 1809; «Приступ к повести о русских», 1811), после чего с ним произошло то же, что с его предшественником — великим русским историком XVIII в. В. Н. Татищевым: он осознал объективную недостаточность имевшихся на тот момент точных данных для выработки серьезной научной концепции. Поэтому Арцыбышев пошел по пути, противоположному тому, который выбрала впоследствии историческая наука: он отказался от выработки объясняющих историю толкований, а решил собрать воедино факты русской истории, полагая, что только после этого возможно переходить к обобщениям. Так родилось его «Повествование о России», над которым историк работал до конца своих дней, успев довести его до 1742 г.
Значительную помощь на всем его творческом пути оказывал Дмитрий Иванович Языков, друг Арцыбышева еще со времен «семеновской» юности, который служил в Петербурге в Министерстве просвещения и тоже занимался научным творчеством: Языков предлагал осуществить реформу русского языка, во многом сходную с той, что произошла век спустя, в 1918 г.; занимался переводами — в частности, иностранных источников и трудов по истории России («Историю монголов» папского посла Плано де Карпини; монографию немецкого ученого А.Л. Шлёцера «Нестор»). Языков, всячески помогая своему другу, делал для него рукописные копии летописей (Лаврентьевской, Псковской), присылал книги (в частности, 1-е издание «Слова о полку Игореве», ныне хранящееся в научной библиотеке Казанского университета).
Арцыбышев сотрудничал с «Казанским вестником» и несколькими столичными журналами (прежде всего с «Вестником Европы» и «Московским вестником»), помещая там статьи на исторические темы и некоторые фрагменты из своей книги. В 1819—1822 гг. Арцыбышев предпринимал попытки стать профессором Казанского университета, однако его прошения были отклонены — как показывают исследования Ю. В. Гусарова, не столько из-за отсутствия у него академического образования, сколько из-за его хронического неумения приспосабливаться и делать то, что в таких случаях «полагается»[4].
В итоге он так и прожил почти всю свою жизнь в деревне, внешне ведя обычную жизнь провинциального помещика средней руки: был дважды женат, имел несколько детей; пытался заниматься предпринимательством (игрой на сезонных колебаниях цен на хлеб); был попечителем Ядринского и Чебоксарского народных училищ. В возрасте 68 неполных лет, 27 августа (8 сентября) 1841 г. Николай Сергеевич скончался и был похоронен неподалеку от родного поместья — на церковном кладбище с. Рындино.
За несколько лет до смерти, в 1838—1839 гг. были опубликованы первые два тома (Книги I—IV) его «Повествования о России», охватывающие период с древнейших времен до начала правления царя Федора Ивановича. Издание было осуществлено хлопотами М. П. Погодина и на средства Московского общества истории и древностей Российских, действительным членом которого Арцыбышев являлся с 1823 г. III том, описывающий историю России до 1689 г., был издан посмертно — в 1843 г. «Повествование о России» расходилось плохо: интерес к истории, пробужденный трудами Карамзина, к тому времени упал, да и сама книга Арцыбышева казалась более «тяжелой», чем изящное сочинение его оппонента. В итоге издание оказалось убыточным, и потому родственникам с большим трудом уже в 1850-е гг. удалось издать очень небольшим тиражом завершающую часть его труда, что и вовсе прошло не замеченным.
Все последующее также поспособствовало тому, чтобы имя его было прочно забыто. Не сохранился его личный архив; в 1930-е годы была осквернена и уничтожена его могила; наконец, к концу XX в. исчезла с лица земли и его деревня Мамино. Словом, осталось очень мало: несколько десятков книг из его библиотеки, некоторое количество архивных документов; три толстых «кирпича» с «Повествованием о России», два-три стихотворения.
К счастью, о Н. С. Арцыбышеве не забывают на родине — в Чувашии, где он родился и закончил свои дни, и в Казани, куда он выезжал из своего «цивильского затворничества», где жили его друзья и единомышленники. Недавно диссертацию об Арцыбышеве защитил преподаватель Чувашского университета Ю. В. Гусаров[5], опубликовавший на основе собранных им данных книгу «Цивильский затворник». На его материалах основана вся биографическая часть настоящего очерка.
*
Такова общая канва его жизни и творческой судьбы. Теперь можно подробнее поговорить собственно о его творчестве и постараться понять, почему оно не отозвалось должным образом в умах и сердцах его современников. Если сказать в самом общем виде, то это происходило, видимо, потому, что Арцыбышев был слишком самобытной фигурой, не вписывающейся в господствующий тон своего времени. Он всегда оказывался «между»: в плане поэтического творчества — между Г. Р. Державиным и А. С. Пушкиным; в области истории — между Н. М. Карамзиным и С. М. Соловьевым.
К сожалению, его поэтическое наследие остается не изученным должным образом, но, если судить по немногим изданным в советское время большим стихотворениям, Арцыбышев выглядит последователем Державина в эпоху, когда его державный стиль уступил место игривым сентиментальным и романтическим импровизациям. Первое утверждение не случайно: его стихотворение «Случай», переизданное в 1841 г. в «Русской беседе», не кто иной, как В. Г. Белинский счел принадлежащим именно Державину[6]! Но в нем Арцыбышев Державину отвечал — его знаменитой оде «Бог»:
В пространстве атома безмерном[7],
Полкапли в страшных безднах вод,
Куда в безумстве дерзновенном
Ты буйных мыслей правишь ход?
Ты червь — а быть желаешь Богом
И в исступлении жестоком
Стремишься в тьму низвергнуть мир:
И даже не из туч гремящих,
Не из огней светил блестящих —
Из глупости творишь кумир.
Обратите внимание на первые две строки — они написаны 200 лет назад, а звучат очень современно и в нынешнюю эпоху квантовых физик, «темных материй», атомных бомб и всепобеждающей попсы. Самое замечательное состоит в том, что его стихи таковы в целом: они не кажутся архаикой, несмотря на отдельные устаревшие стилистические формы:
Душа моя затрепетала
От мысли бедственной сея;
На части грудь мою терзала
Сомненья лютая змея.
Итак, я автомат презренный,
Слепым лишь случаем рожденный?
Что ж добродетель, кою чту?
Что разум, память и свобода?
Что связь, порядок и природа?..
Везде я вижу лишь мечту.
В другом написанном через 10 лет стихотворении он продолжает ту же тему и дает себе и Державину такой ответ:
Велик ты в круге только тесном,
Но мал на поприще небесном;
Твой ум созреть еще не мог,
Чтоб тайны все понять судьбины:
Хоть можешь знать ты часть средины,
Конец с началом знает Бог.
Такое предельно широкое восприятие картины мироздания является ключом к его пониманию истории, хотя внешне вроде бы резко контрастирует с ним: в восприятии современников, удивленных, возмущенных и даже ошарашенных его резко отрицательным отношением к труду Карамзина, Арцыбышев выглядел как раз занудой, придиравшимся к великому историку по мелочам, обращавшим внимания на фактики, но не замечавшим широту его общего взгляда на русскую историю. У самого же Арцыбышева — ни в его «Замечаниях» на «Историю» Карамзина, ни в его «Повествовании о России» — никакой концепции угадать не могли, а видели лишь нагромождение частных фактов. Это прекрасно выражено в письмах Боратынского к И. В. Киреевскому из Казани, описывающих его недолгое общение с Арцыбышевым. Приведу эти краткие высказывания, относящиеся к началу 1832 г., полностью: «Здесь живет страшный Арцыбашев: я с ним говорил, не зная, что это он. Я постараюсь с ним сблизиться, чтобы рассмотреть его натуру». «Я познакомился с Арцыбашевым. Человек очень ученый и в разговоре более приличный, нежели в печати, впрочем, весь погрязший в изысканиях. Выше хронологических чисел он ничего не видит в истории»[8].
Итак, Арцыбышев в изысканиях — «погряз» (т. е. дело это — «грязное», не изящное); «хронологические числа» (т. е. последовательность фактов) — дело тоже «низкое». Боратынскому, видимо, был ведом более высокий уровень понимания истории — наверное, почерпнутый из Карамзина.
Но чем же был Арцыбышев «не приличен в печати»? Это впрямую касается его полемики с Карамзиным, о которой стоит сказать подробнее. Весьма показательно, что приступили к изучению русской истории они примерно одновременно: Арцыбышев датирует это 1802 г., Карамзин официально получил статус «историографа» 31 октября 1803 г. В обоих случаях этому должен был предшествовать трудно определимый «инкубационный» период, когда они приходили к такому замыслу.
Так что их негласное противостояние было в некоторой степени символическим — по крайней мере, в двух отношениях: Карамзин — в отличие от Арцыбышева — изначально был историком официозным; Карамзин — в отличие от Арцыбышева — был историком столичным. Это имело как «идеологическую», так и чисто материальную стороны дела.
В первом случае это означало, что Карамзин изначально намеревался писать именно систематическое изложение истории и отразить в ней свои представления о просвещенной монархии — идеи, весьма созвучные самому Александру I в начале его правления. Арцыбышев, напротив, достаточно долго искал форму, в которую ему следовало облечь свои изыскания, и при этом — судя по его стихам — был против того, чтобы класть во главу угла какие-либо априорные идеологические идеи: ведь «хоть можешь знать ты часть средины, // конец с началом знает Бог».
Это в немалой степени обусловило то, что Карамзин гораздо раньше Арцыбышева обнародовал плоды своих трудов. Но было и гораздо более прозаическая причина: Карамзин, став государственным чиновником, получал ежегодный пенсион в три тысячи рублей в год и право беспрепятственного доступа в государственные архивы и библиотеки. Арцыбышев же жил за счет средств от своего поместья, вдалеке от столиц. Для него роль столицы играла в значительной степени Казань, а ее университетская библиотека и общение с немногими казанскими интеллигентами были чуть ли не единственными отдушинами. Он ездил изредка и в столицы и, видимо, скупал в столичных магазинах все книги по истории, что было возможно в них найти, но все равно это было неравноценной заменой: провинциал, лишь наезжающий в столицу, торопится ухватить всего по чуть-чуть — и по возможности побольше, — чтобы потом, дома, обработать этот материал.
Эта параллель символична для русской исторической науки — такое «противостояние» столичных и провинциальных историков существует и поныне. И нельзя сказать, что «победа» безоговорочно на стороне столичных историков, находящихся в несравненно более выгодных условиях: у них архивы и библиотеки, что называется, под боком.
«Противостояние» Карамзина и Арцыбышева весьма характерно в этом отношении. Внешне «победа» вроде бы полностью на стороне Карамзина: его труд получил широкое признание и с той поры многократно переиздавался; его несомненной заслугой является то, что тема русской истории вошла в число общественно значимых тем: его «Историю» читали почти все, кто умел тогда читать, а если не читали сами, то, по крайней мере, слышали о ней от читавших ее. Об Арцыбышеве широко говорили лишь единожды — и опять-таки в связи с его критикой Карамзина, и общественное мнение было явно на стороне последнего.
Но успех Карамзина с точки зрения перспектив самой исторической науки куплен достаточно дорогой ценой, и чтобы понять это, следует взглянуть на развитие ее в целом — с XVIII по конец XX в. Суть состоит в том, что историческая наука в тот период — с XVIII по середину XIX в. — переживала стадию становления, и самые характерные явления той поры — начало публикации исторических источников и создание больших общих курсов русской истории — были естественными проявлениями этого. Тогда нужно было еще только вспахать целину и представить потенциальному читателю хоть какую-то целостную картину русской истории.
Источники не опубликованы? Их стали активно издавать — обычно упрощая и искажая (ради скорости и из-за недостатка знаний): в подавляющем большинстве случаев публикации тех лет не соответствуют современным научным требованиям. Но если они не опубликованы, то как их использовать при создании общих курсов истории? Россиянам ведь надо знать о своей истории! Наиболее остро эта проблема стояла перед В. Н. Татищевым (1686—1750), который после нескольких «примериваний» пошел по пути возможно точного перевода-пересказа первоисточников с комментированием наиболее спорных моментов в примечаниях. Если бы все его источники сохранились, то его замечательная «История Российская» не подверглась бы впоследствии острой критике и даже обвинениям Татищева в злонамеренных фальсификациях (именно Карамзин во многом заложил эту печальную «традицию»!). По тому же пути пошел и М. М. Щербатов (1733—1790), также стремившийся следовать источникам, а в примечаниях давать ссылки на архивные источники и самые существенные цитаты из них.
Но такие тесно «привязанные» к источникам «Истории» кое-кому казались сухими и скучными: не случайно, в 1790-е гг. Карамзин сетовал на то, что «у нас до сего времени нет хорошей Российской Истории»[9]. И вот он, заручившись государственной поддержкой, стал создавать такую хорошую «Историю». И нарушил баланс в соотношении «источник — историческое повествование».
Дело в том, что исторические источники заведомо неполны, часто пристрастны и сплошь и рядом просто не позволяют выносить однозначные суждения по многим весьма существенным вопросам истории. Это вполне осознавали предшественники Карамзина. Это осознал и Карамзин, когда начал работать с источниками. И потому, заимствовав у предшественников двойную форму подачи материала (основной текст и примечания к нему), Карамзин резко усилил контраст между ними. Вместо доселе обычной — летописной — формы изложения истории он ввел беллетризованный почти роман об истории, где даются моральные оценки историческим уже не лицам, а персонажам, бесстрашно выносятся однозначные суждения там, где возможно выстроить лишь гипотезу; словом, объективно существующие «пустоты» заполнены авторскими домыслами и сентенциями, в которых он предстает всезнающим учителем, преподающим урок царям и народам. Другой стороной этого блестящего по форме изложения являются огромные — бóльшие, нежели у его предшественников — примечания, наполненные множеством цитат из источников, которые призваны убедить читателя в неисчерпаемой эрудиции ее автора. Характерной чертой их является неуважение к тем, кто был до него: исподволь проводится мысль о том, что именно Карамзин является первым и единственно достойным русским историком.
Щербатова Карамзин почти не замечает, но зато многократно обвиняет «никоновского невежду» и Татищева в разнообразных «баснославиях» и «вымыслах», а по сути — тому, что они пользовались теми источниками, которыми не располагал сам Карамзин. Между тем, «никоновский невежда», как показывают новейшие исследования (Б. М. Клосса), — это глава русской православной церкви митрополит Даниил, под началом которого в 20-х гг. XVI в. была создана Никоновская летопись. В этом грандиозном своде отразились многие, в том числе и не дошедшие до нас источники. Называть такого человека «невеждой» — даже если не знать его имени — значит, характеризовать прежде всего себя самого. То же самое касается и Татищева: вместо того, чтобы отдать должное самоотверженному труду этого подвижника русской науки, — передергивание или в лучшем случае снисходительное похлопывание по плечу.
Но широкий читатель, дилетант в области истории, заметить этого просто не мог. «История» Карамзина увлекала и будоражила мысль, а на его во многом натянутые или вообще произвольные характеристики исторических лиц читатель либо склонен был не обращать особого внимания как на мелкие частности, либо при всем своем желании не мог им ничего противопоставить.
Но только не Арцыбышев! Его, знавшего основную массу источников и имевшего навыки работы с ними, многочисленные некорректности и вольности Карамзина попросту возмутили. Сохранилось письмо его к Д. И. Языкову от 8 июня 1818 г., в котором он выражает свое первое впечатление от знакомства с книгой Карамзина: «Третьего дня получил я «Историю» Карамзина, разрезал листы ее с жадностью и принялся читать со вниманием. Что ж представилось глазам моим? Ей-ей, не верю еще до сих пор сам себе — безобразное смешение посторонщины, недоказательности, безразборности, болтливости и преглупейшей догадочности!.. Тщетно целый век ученые старались очистить историю русскую от нелепостей! Является дурачина и вводит их еще в большем свете… Вот тебе историограф и давно ожиданная история! Читай, народ русский, и утешайся!.. Что подумают о нас народы просвещенные, когда с критикой прочтут ее? По милости старой ключницы, которая, сидя на печи, давила тараканов и всенародно рассказывала глупые сказки, сочтут и нас сказочниками. У меня сердце кровью обливается, когда я об этом подумаю»[10].
Отзыв весьма эмоциональный и совершенно уничтожающий. Вскоре Арцыбышев разразился серией статей, опубликованных сначала в «Казанском вестнике»[11]. Затем он опубликовал две статьи в московском «Вестнике Европы», ставшие его ответом на знаменитый IX том Карамзина, где тот описывал правление Ивана Грозного. Затем, уже после смерти знаменитого «историографа» (в 1826 г.), в «Московском вестнике», в нескольких номерах появилась его большая статья — «Замечания на “Историю государства Российского”»[12]. Этот журнал, издававшийся историком М. П. Погодиным, читался по всей России, и потому последовательная всеобъемлющая критика книги Карамзина, который к тому времени уже стал восприниматься в качестве великого историка и классика, вызвала широкий общественный резонанс и — большей частью — возмущение дерзостью какого-то выскочки, покусившегося на святыню.
И действительно, первые разделы «Замечаний» Арцыбышева сохраняли в себе отчасти тот полемический запал, который содержится в письме Языкову, так что Погодин, решившийся на их издание, счел нужным в первом же номере сделать оговорку: в работе Арцыбышева «есть несколько выходок, лично относящихся к Карамзину, писанных как будто не с хладнокровием — они мне не нравятся»[13].
Но это не уменьшило поток возмущения, а скорее, только подзадорило защитников Карамзина. Например, М. Дмитриев, уподобляя Карамзина знаменитому античному скульптору Фидию, так отвечал на источниковедческие «придирки» Арцыбышева: это все равно, что «требовать от Фидия, чтобы он сам выламывал мрамор и возил его. Пусть всякий берет труд по своим силам и способностям; пусть выламывают и возят мрамор г-да Арцыбашевы, а в будущее время сделают из него статую все-таки Карамзины!»[14].
За «историографа» вступился поэт П. А. Вяземский, в октябрьском номере «Московского телеграфа» за 1828 г. опубликовавший стихотворную «Быль». В ней рассказывалось о неком обветшавшем храме, где гнездились совы. Потом туда явился молодой и смелый зодчий, перестроивший и обновивший храм. Тогда лишившийся теплых гнезд,
«В досаде злой, в остервененьи диком,
Совиный их ночной ареопаг
Труд зодчего позорил дерзким криком».
В концовке сей «глубокой» аллегории, будто бы написанной лет за 10 до того, он прямо называет, кто есть кто: «зодчий» — это Карамзин, «храм» — русская история, а «совы» — некие историки, обсевшие этот храм. Этого ему показалось мало, и он присовокупил прозаический комментарий, в котором называются и конкретные имена:
«Критика, подобная критике г-на Арцыбашева; "Московский вестник", который с коленопреклонением принимает его и молит, как деяния достойного себя <…>; г-н Арцыбашев, критикующий слог и язык Карамзина; "Московский вестник", признающийся, что критика г-на Арцыбашева написана с «выходками, лично относящихся к Карамзину, писанных как будто не с хладнокровием», но несмотря на то открывающий ему радушные объятия; союз, смешение и заговор сих имен в виду имени, заслуг и славы Карамзина, все это явление более смешное, нежели прискорбное для нашей литературной и народной чести. Тут нет повода к рассуждениям, к исследованиям, к ответам систематическим, тут один повод к осмеянию»[15].
В итоге Погодин в середине следующего года вынужден был дать такой выразительный ответ своим критикам: «Литературное гонение на меня, в разных видах, за помещение статьи г-на Арцыбышева все еще продолжается. Даже некоторые из помещавших труды свои у меня в журнале требовали, чтоб я выгородил их из-под мнимой опалы, как не принимавших участия в этом деле. (Не пугаются ли иные робкие читатели даже и того, что читали статью? O Tempora! O Mores!). Но сие долгом поставляю объявить, что вся вина, если есть такая, в помещении замечаний г-на Арцыбышева, простирается на одного меня, ибо оно ни от кого больше не зависело. Прибавлю однакожь, что если б случилось мне опять попасть в такие же обстоятельства, то опять поступил бы я так же, хотя б всотеро неприятностей должно было мне вынести после»[16].
Однако изначальная оговорка Погодина Арцыбышеву тоже не понравилась, он вместе с продолжением своих «Замечаний» прислал Погодину открытое письмо. В итоге в следующем номере «Московского вестника» вышли как его «Замечания» на II том карамзинской «Истории», так и два письма: Арцыбышева — Погодину и ответ последнего.
Из первого из них выясняется, что Арцыбышев решил «твердо не отвечать на пустые возражения, делаемые мне журнальными статьями сердитых и бессильных знатоков», и рад, что ведущий в ту пору архивист П. М. Строев «думает так же». Арцыбышев при этом попросил объяснить, что именно издатель имел в виду под «выходками»: «Где писано лично относящееся к Карамзину? Я от роду не видал г. Карамзина и писал только об его произведении»[17].
При этом шумная критика его «Замечаний» все же повлияла на Арцыбышева: в новых своих «Замечаниях» он выражается нейтральнее, что не преминул отметить Погодин: под «выходками» он понимал «неучтивые придачи к доказательствам, Вами сделанные…, неучтивые особенно потому, что дело шло о писании знаменитом, оказавшем великие услуги истории и словесности вообще». Далее Погодин указывает конкретные страницы, где эти «неучтивости» располагались, и продолжает: «Таких выходок в нынешних замечаниях нет. Если б не было их прежде, то Ваши противники, не имея благовидного предлога, должны бы были оставить их в покое, как не для них писанные — а другие, которые любят науку, для науки воспользовались бы ими гораздо с большим удовольствием»[18].
Таким образом, вся «контркритика» Арцыбышева сводилась к форме — к полемичности его тона, но не к существу дела. В самом существенном сторонники Карамзина ничего возразить не могли. Характерно, что ведущие на тот момент историки-профессионалы — сам Погодин и Строев — поддержали Арцыбышева в главном. И немудрено: чтобы ему отвечать по существу, надо было обладать серьезной исторической подготовкой, и потому Вяземский в своем хлестком, но поверхностном «осмеянии» вынужден был для защиты Карамзина по сути ошельмовать всех вообще историков — как предшественников, так и его современников: «совы» в его «притче» — именно историки, паразитировавшие на Истории до прихода «зодчего»-Карамзина.
Арцыбышев излагал свои «Замечания» просто и конкретно: он указывал том и страницу «Истории», приводил цитату из основного карамзинского текста, сопоставлял ее с текстом карамзинских «Примечаний», цитировал опубликованные в тот момент источники и делал выводы: здесь Карамзин фантазирует, здесь искажает текст, здесь умалчивает, здесь говорит как о точно установленном то, что можно лишь предполагать, здесь такие-то данные можно истолковать по-иному. Особенно существенно было то, что Арцыбышев наглядно показал, что и «Примечания» Карамзина, которые устрашающе действовали на дилетантов и выглядели в их глазах неопровержимым доказательством непогрешимости «историографа», на самом деле тенденциозны.
Бóльшая часть его возражений сохраняет полную силу и теперь, и не случайно, что и современные историки, отмечая «недостатки» в работе Карамзина с источниками, по существу воспроизводят логику Арцыбышева. Вот что пишет В. П. Козлов в одной из статей, приложенных к академическому переизданию Карамзина: «Для характеристики текстологических приемов Карамзина в “Примечаниях” представляет интерес и пропуски в опубликованных текстах. К ним он прибегал часто и широко, обозначая их, как правило, отточиями, а подчас и не отмечая свои конъектуры <…> Иногда пропуски были связаны с теми частями источников, которые противоречили исторической концепции Карамзина... Допущенные сокращения вынуждали Карамзина проводить своего рода литературную обработку: ставить предлоги, местоимения, архаизировать или модернизировать тексты документов и даже вводить в них собственные дополнения (подчас без каких-либо оговорок). В результате в «Примечаниях» появлялся иногда совершенно новый, никогда не существовавший текст»[19].
Между тем, именно такого рода обвинения — в вымыслах никогда не существовавших уникальных дополнений — предъявил Татищеву сам Карамзин, и это до сих пор повторяют некоторые современные историки, зачастую противопоставляя Татищеву именно Карамзина как строгого исследователя, освободившегося от недостатков «баснословного историописания» XVIII в. Однако если последнее вообще верно, то это следует отнести именно к Арцыбышеву, а не к Карамзину! Сам же Арцыбышев, жестко полемизируя с Карамзиным, никогда публично не позволял себе подобного рода оценок по отношению к историкам XVIII в.
Тем не менее, критика Карамзина со стороны Арцыбышева несомненно повлияла на часть читающей публики. Примером тому может служить издатель «Московского телеграфа» Н. А. Полевой. В 1828 г. Он опубликовал у себя ту самую «Быль» Вяземского, но вместе с тем тогда же начал работу над своей «Историей русского народа», которая уже самим своим названием говорит об авторском замысле: карамзинской «истории государства» Полевой противопоставил «историю народа». Однако на деле, как это неоднократно отмечалось, с историей народа у него не получилось: историческая наука того времени еще объективно не могла одолеть столь трудную тему, а Полевой не обладал познаниями в истории, сопоставимыми с теми, что накопили Арцыбышев и Карамзин. В итоге одной идеологической конструкции («государству») он противопоставил другую — тоже идеологическую («народ»), но с содержательной точки зрения дело свелось к чисто журналистской по форме полемике: в «Истории» Полевого тоже действовали персонажи, а не лица, но наделенные противоположными, нежели у Карамзина, характеристиками. Порой социологические построения Полевого были весьма проницательными, а конкретные оценки — более точными по существу, но все равно это оставалось лишь перевернутым зеркалом[20].
Арцыбышев не желал участвовать в такого рода идеологических играх, не желал выдумывать из головы концепции — вовсе не потому, что из-за своей бездарности не мог сочинить таковые. А ведь и такие оценки ему выносились! Например, еще один поэт, Аполлон Григорьев, говоря о значении карамзинской «Истории», среди прочего высказался именно так: «Пытался восставать на Карамзина Арцыбышев — сводным и буквальным изложением летописей; но положительная бездарность и, может быть, рановременность попытки, сделанной до издания в свет главных источников нашей истории, были причиною неуспеха»[21].
Этот оборот мысли — не можешь сочинить концепцию, значит, бездарен — характерен для всего XIX в. По этой логике заполнение «белых пятен» истории концепциями — дело естественное: историки не должны ограничиваться изучением скучных и неполных фактов. И весь XIX в. историки в основном тем и занимались, что создавали разные теоретические конструкции русской истории, по-разному заполняли пустоты между фактами. Первым такую научную концепцию — не идеологическую, как у Карамзина, и не социологическую, как у Полевого, — создал С. М. Соловьев, что обусловило его «Истории России с древнейших времен» столь широкую известность. За ней последовали другие познавательные схемы, которые сыграли определенную положительную роль в накоплении исторических знаний, т.е. расширении фонда исторических фактов, но вместе с тем оставались однобокими: они всегда игнорировали часть «неудобных» или просто непонятных фактов. Из-за этого с конца XIX в. историки стали отходить от разработки новых схем: началась эпоха специализации на отдельных темах и выработки частных концепций. При этом некоторые элементы прежних конструкций, переходившие из одной теоретической схемы в другую, стали восприниматься историками новых поколений тоже как исторические факты. Иными словами, теоретические домыслы стали непроизвольно смешиваться с фактами, а стало быть, то, с чем боролся Арцыбышев, выступая против методов работы Карамзина с источниками, ползучим образом проникло в науку.
Подобным же образом составлялась и история исторической науки: историографы описывали движение науки как последовательную смену концепций, и в таком описании Арцыбышеву места просто не находилось: у него четко формулируемой концепции историографы отыскать не могли, а значит, либо «забывали» о нем вообще, либо упоминали между прочим. В XIX в. о нем еще помнили, и ряд крупных историков — например, тот же Соловьев и К. Н. Бестужев-Рюмин — отзывался о нем с глубоким уважением. Более того, по словам последнего, «в первые годы профессорства в Московском университете Соловьев не уходил на занятия, не просмотрев "Повествования"»[22]. И это значит, что этот начинающий преподаватель брал факты из книги Арцыбышева, затем проговаривал их вслух перед студентами и тем самым осмысливал их для себя[23]. По сути, «Повествование о России» косвенно оказывается одним из важнейших источников знаменитой соловьевской «Истории»: труд Арцыбышева был для Соловьева той базой, на которую он опирался, начиная собственные исследования. Даже если бы Соловьев был единственным читателем Арцыбышева, то и тогда вклад последнего в становление отечественной истории стоило бы признать весьма существенным.
В XX же в. в науке появились новые герои и новые темы, и потому об Арцыбышеве прочно забыли. В итоге к нему приклеились в качестве ярлыка самые поверхностные оценки XIX в. Между тем, нынешнее время, явно служащее некой переходной стадией к принципиально новому состоянию как общества в целом, так и в науки в частности, настоятельно требует возвратиться к «особой позиции» Арцыбышева и присмотреться к ней внимательно. Одним из проявлений этого перехода является кризис концептуальности как таковой. Сейчас, с одной стороны, достаются из-под спуда старинные концепции XIX в., с другой стороны, рождается огромное число теорий, самых что ни есть доморощенных — часто на основе двух-трех прочитанных книг. Отсюда — общее обесценивание теоретических знаний. В итоге у вступающих в жизнь школьников и студентов, да и просто любителей истории в голове возникает каша из обрывков самых разнообразных схем — каша, которой никто может насытиться. Самое печальное, что это касается и историков-профессионалов, носителей ученых степеней. Многие из них, берясь рассуждать об общих закономерностях развития России, имеют крайне смутное представление об истории допетровской Руси. А что говорить о так называемых «политологах», для которых вся история сводится к истории новейшей?
Отсюда вытекают две крайности: часть историков уже не воспринимает исторические факты в качестве непосредственной реальности; они — лишь «тип знания», виртуальность, элементы концепций, которые можно свободно варьировать вместе с самими концепциями. Реакцией на такое превращение истории в литературу, философию или политологию неизбежно является стремление восстановить представление о самоценности исторических фактов. Применительно к русской истории это будет ничем иным, как возвращением к позиции Арцыбышева.
Факты — это атомы истории, а, по Арцыбышеву, пространство атома — безмерно, и потому всегда найдутся такие атомы, в которых сами историки — лишь их крошечные элементы. И это значит, что надо не выдумывать теории и замещать ими недостающие факты, а учиться находить эти факты и правильно располагать их между собой. Факты невозможно выстроить по ранжиру — по линейке «причинно-следственных связей», доступных разуму; связи между фактами более разноплановы и неоднозначны, и пока эти связи — непонятны, не надо ничего выдумывать, надо просто свести их все вместе, и это даст читателю больше, нежели предпринятая неким автором искусственная выборка, сделанная на основе некой, пусть самой правдоподобной идеи. Пока наука не научилась правильно выстраивать факты, то надо следовать за источниками, и коль скоро факты традиционно выстраивались по летописному принципу, то надо ему и следовать: значит, в «хронологических числах», пусть они даже казались хорошему поэту Боратынскому, примитивными, заключена высшая мудрость. Не «часть средины», доступная разуму, а «целое», доступное Богу, должно быть главным критерием истины. Как точно выразился один современный поэт, «замысел, который движет нашей рукою, выше, чем вымысел, который доступен нашей руке». Именно поэтому Арцыбышев и отказался от сочинения теорий и так остро реагировал на труд Карамзина: в его время можно было придумать лишь теории-однодневки — да и то насилуя факты и игнорируя часть из них[24].
На его взгляд, не разум, ищущий внешние причинно-следственные связи, а интуитивное стремление постичь Божий замысел, т. е. внутреннее видение, должно быть главным проводником изучающего историю — как историка, так и читателя. Интуиция позволит увидеть в целостной «мозаике» фактов эти самые нелинейные связи, дать чувство целого, преодолеть соблазн вымысла и приблизиться к Замыслу, но сначала надо дать себе труд — историку выстроить факты, а читателю прочесть их.
Между тем, историки давным-давно пишут свои книги и статьи не для рядовых читателей и даже не для студентов исторических факультетов, а для самих себя. Они обычно не считают нужным воспроизводить всю имеющеюся по теме информацию, предполагая, что читатели ее и так знают; оперируют концепциями, ссылаясь на своих предшественников и на сборники источников, которые никто, кроме них самих, читать не будет. Поэтому студенты, будущие историки — знаю это по себе! — вынуждены в поисках простых фактов буквально продираться сквозь дебри вторичных и третичных концепций. И потому целостный взгляд на историю как таковую у многих не складывается вообще: современные «концептуальные» учебники являются скорее не опорой, а помехой. Собственно, это и порождает скепсис любителей истории, обычно «физиков» в широком смысле слова, по отношению к историкам-профессионалам.
Между тем, Арцыбышев предназначал свою книгу не для немногочисленных в ту пору профессионалов: он желал, чтобы его труды «оказали услугу отечеству; особенно же преподавателям, их нужда в чистой и посторонними вставками не запутанной Истории, довольно мне известна». И в этом нет противоречия с вышесказанным: крайности сходятся, и чистый, освобожденный от лишесловия как летописцев, так и — особенно! — современных концепций взгляд на исходные факты и теперь полезен всем — как учащимся, так и замученным концепциями специалистам.
Книга Арцыбышева чрезвычайно выгодно отличается от работ как его современников, так и потомков еще тем, что, по сути, делает доступным широкому читателю основное содержание русских летописей: он перелагает их содержание очень полно и тщательно. Более того, его книга остается до сих пор по сути единственным комментированным изложением/переводом русских летописей на современный русский язык[25]. И очень важно, что язык его, лишенный романтических и концептуальных «украшений», не выглядит архаичным. Да, в книге есть устаревшие стилистические обороты, местами фразы построены довольно сложно, но эти трудности носят объективный характер — очень сложно преобразовать летописную форму подачи материала в повествовательную: труд Арцыбышева — все же не перевод летописей на современный язык, а их передача их содержания. Все это не отменяет главного достоинства его труда: авторского стремления передавать исторические факты как есть, не обряжая их в одежды каких бы то ни было концепций. В нынешних условиях тотального господства концептуального подхода существенным плюсом является и наивное в глазах многих современных историков следование за источниками: он чаще всего воспроизводит и те оценки лиц, которые в них содержатся.
И это для него было принципиальным вопросом и одним из ключевых пунктов разногласий с Карамзиным: Арцыбышев полагал, что обвинения в адрес давно ушедших лиц либо должны быть строго доказаны, либо от них следует воздерживаться. Поэтому при изложении такого рода фактов историк должен держаться оправдательной линии, т. е., говоря юридическим языком, соблюдать принцип презумпции невиновности. Именно поэтому он утверждал, что нельзя верить всему, что говорили о зверствах Ивана Грозного его враги, что материалы следственного дела о гибели царевича Дмитрия не доказывают официозной версии о причастности к этому Бориса Годунова — версии, которая обрела широкую известность благодаря Карамзину и затем пушкинскому «Борису Годунову»[26].
В первом случае он явно перегибал палку: видя тенденциозность враждебных царю источников, он на этом основании отказывался им верить вообще. При этом тенденциозность источников официозных он принимал за чистую монету. Из-за этого также пристрастный взгляд Карамзина на деятельность Ивана Грозного оказывается, с современной точки зрения, более объективным.
Это один из примеров того, что, по нынешним меркам, труд его все же устарел. Можно привести и другие. Автор, как и его оппонент Карамзин, считая существовавшие в их времена общественные отношения «всегдашними», внеисторическими, автоматически переносил их на эпоху средневековья. Поэтому «князья» у него оказываются «государями», «смерды» — «мужиками» и т. п.
Автору, проживающему вдалеке от столиц, оказался недоступным ряд не изданных к тому времени источников — прежде всего, Ипатьевская летопись, которая наиболее подробно описывает события русской истории XII—XIII в. Поэтому он вынужден был широко пользоваться материалом «Примечаний» Карамзина и постоянно сетовать на то, что этот «сочинитель» часто не полностью приводил летописный текст, а просто пересказывал его[27]. Но тем удивительнее, что историк, тщательно выбирая цитаты, что называется, из вторых рук, сумел достаточно полно и точно воспроизвести недоступный ему летописный текст, не допустив серьезных ошибок, но нередко сумевший более точно и тонко истолковать/перевести зачастую темные и невнятные летописные тексты. Несмотря на эти «но» необходимо заключить: основной фонд исторических фактов остается все тем же, и Арцыбышевым он воспроизведен, а этого вступающему в мир истории читателю на первых порах вполне достаточно.
Для того чтобы обосновать свое повествование о России, Арцыбышев дает огромные примечания, которые по своему объему соперничают с «карамзинскими». В них он обильно цитирует источники, содержание которых передает в основном тексте (в подавляющем большинстве случаев, очень точно); дает историко-географические и терминологические комментарии к отдельным названиям; приводит альтернативные показания разных источников и объясняет в таких случаях, почему он в основной текст включил именно этот, а не другой вариант.
В настоящее время почти все летописи и прочие источники, которыми пользовался Арцыбышев, переизданы, причем более качественно, чем в его время, и это обстоятельство сделало значительную часть его примечаний либо устаревшими, либо излишними: специалисты все его суждения могут проверить по летописным текстам или обратиться к изданию 1838/39 гг., любителям истории это и не очень нужно.
Тем не менее книга Н. С. Арцыбышева, не востребованная современниками, и поныне оказывается наилучшим проводником в далекий и таинственный мир древнерусских источников. Автор, 200 лет назад решившийся посвятить всего себя изучению истории свой страны, дает возможность своим далеким потомкам воспринять ее так, как она звучит в непосредственном переложении древних текстов — без «разжевывания» их с помощью какой-нибудь концепции. Тем самым, он дает возможность понять, откуда вообще взялись позднейшие научные концепции, а значит, пробудить мысль у читателя. Будем надеяться, что за прошедшие два века сообщество любителей отечественной истории несколько повзрослело…
©А. В. Журавель
[1] Фамилия его возникла из западнорусского (или западнославянского) звучания слова «архиепископ», на которое, вероятно, повлияла немецкая форма: ср. «Erzbischof» – «арцыбискуп». Поэтому она получила разные огласовки: есть и «Арцыбашевы», и «Арцыбушевы», и «Арцыбышевы».
[2] За полгода он самостоятельно выучил итальянский язык и свободно общался с петербургскими итальянцами.
[3] В юности он был способен, прочитав страницу, тут же пересказать ее слово в слово.
[4] Гусаров Ю. В. Цивильский затворник (очерк жизни и творческой деятельности Н. С. Арцыбышева). Чебоксары, 2000. С.87—89.
[5] Гусаров Ю. В. Жизнь, общественная и научная деятельность русского историка Н. С. Арцыбышева (1773— 1841). Автореф. канд. дис. Чебоксары, 2002.
[6] См.: Белинский В. Г. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1979. С. 471.
[7] Здесь и ниже курсив в цитатах мой – Ред.
[8] Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. 1800–1844. М., 1998. С. 282, 283.
[9] Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 515.
[10] Гусаров Ю. В. Цивильский затворник. С. 110.
[11] Арцыбышев Н. С. Замечания на «Историю государства Российского», сочиненную г. Карамзиным, 2-го издания, иждивением братьев Слениных. СПб., 1818 года // Казанский вестник. 1822. Ч. 5. Кн. 5; Ч. 6. Кн. 9, 11; 1823. Ч. 7. Кн. 1, 2.
[12] Подробнее историю полемики Арцыбышева с Карамзиным см.: Гусаров Ю. В. Цивильский затворник. С. 108—126. Публикуемые ниже материалы не дублируют исследования этого историка. Общее и достаточно тенденциозное описание критических выступлений Арцыбышева содержится в книге В. П. Козлова (Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 101—104, 121—122, 128—131): современный историк Арцыбышева и его единомышленников сначала априори относит в разряд «"ученых" критиков», то есть ученых в кавычках, псевдоученых, хотя затем, впрочем, признает их позицию основательной (Там же. С. 59, 197). Характерно, что о «Повествовании о России», главном ответе Арцыбышева Карамзину, В. П. Козлов и не упоминает!
[13] Московский вестник. 1828. № 19—20. С. 287.
[14] Атеней. 1829. Ч. 1. С. 446.
[15] Московский телеграф. 1828. Ч. 3. № 19. С. 271–272; Вяземский П. А. Сочинения Т. 1. М., 1982. С. 91, 395.
[16] Московский вестник. 1829. Ч. 2. С. 261.
[17] Московский вестник. 1829. Ч. 3. С. 198—199. Курсив в цитате — Арцыбышева.
[18] Московский вестник. 1829. Ч. 3. С. 201—202.
[19] Козлов В. П. «Примечания» Н. М. Карамзина к «Истории государства Российского» // Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 1. М.: Наука, 1989. С. 569. Ср.: Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников. С. 172.
[20] Недавнее переиздание книги Полевого (Полевой Н. А. История русского народа. М., 1997) дает возможность современным читателям понять, что оппоненты Карамзина были в творческом плане отнюдь не столь уж бесталанны, как это следует из общих историографических обзоров XIX—XX вв.
[21] Григорьев А. А. Эстетика и критика. М., 1980. С.193.
[22] См.: Гусаров Ю. В. Цивильский затворник. С. 106.
[23] С этим, думается, согласятся многие преподаватели: смысл фактов учителю становится по-настоящему ясным лишь тогда, когда он начинает излагать их учащимся. Сам недавний студент, он сначала воспринимает в основном лишь информацию, но не знание.
[24] Порой его полемику с Карамзиным поверхностно объясняют тем, что Арцыбышев относился к числу консерваторов, враждебно относившихся к «антитираническим» мотивам, которые проявились у Карамзина (Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 103—104). Но «тираноборчество» официозного историка заметно лишь при описании царствования Ивана Грозного, т.е. в IX т., а резко отрицательное отношение Арцыбышева к труду Карамзина сформировалось раньше – при знакомстве его с самыми первыми томами карамзинской «Истории»: для Арцыбышева Карамзин был «баснописец», а не серьезный историк, а для профессионала некомпетентность как бы коллеги является гораздо более сильным раздражителем, чем политика. Точно так же серьезных современных историков псевдоисторические фантазии Фоменко и компании скорее выведут из равновесия, чем благоглупости, высказанные кем-нибудь из нынешнего «политического бомонда».
[25] Только в конце XX в. начали появляться переводы и комментарии к отдельным русским летописям, не охватывающим всей русской средневековой истории: Се Повести временных лет (Лаврентьевская летопись). Арзамас, 1993; Галицко-Волынская летопись. СПб., 2005.
[26] Арцыбышев Н. С. 1) О степени доверия к «Истории», сочиненной князем Курбским // Вестник Европы. 1821. Ч. 118. № 12; 2) О свойствах царя Иоанна Васильевича // Вестник Европы. 1821. Ч. 120. № 18–19; 3) О кончине царевича Димитрия // Московский вестник. 1830. Ч. 2.
[27] Те же «претензии» у Арцыбышева были к труду Татищева, однако он никогда – в отличие от Карамзина – не позволял себе некорректных высказываний по отношению к своему предшественнику. Тем более, ему и в голову не приходило подозревать Татищева в фальсификациях: эту версию пустил в свет именно Карамзин.













